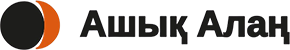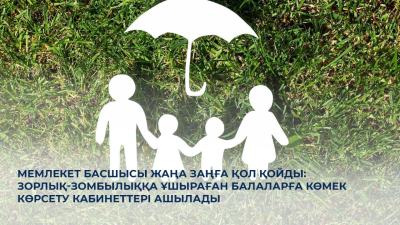О чём важно помнить в попытках сделать архитектуру экологичной?
О чём важно помнить в попытках сделать архитектуру экологичной?
Архитектор Асель Есжанова в колонке для «Власти» задается вопросом: способны ли инновации и биодизайн изменить повседневные практики человека , или же они лишь усиливают его конфронтацию с природой? Через опыт участия в проекте биодизайна и биоархитектуры Ancient Futures она приглашает к дискуссии о том, почему архитекторам и каждому человеку необходимо осмыслить прошлое, чтобы отказаться от ложной надежды на технологии и не допустить повторения экологических катастроф в будущем.
Говоря об идентичности, в первую очередь мы обращаемся к языку, культуре, истории. Но мне близка идея, что идентичность может быть множественной. Поэтому, как архитектору, мне тоже важно войти в этот дискурс и переосмыслить со своей стороны.
Архитектура досталась Казахстану в основном в наследство от Советского Союза, где она была инструментом пропаганды, политических заявлений и демонстрации амбиций власти на мировой арене. С этой точки зрения мне всегда было интересно наблюдать и размышлять: а какая архитектура может быть по-настоящему близкой нам? Когда она в первую очередь служит, а не манифестирует?
Прийти к чему-то своему, на мой взгляд, мы можем только вернувшись к истокам — не просто к «природе», а к наблюдению за тем, что нас окружает: почве, ветру, воде, климату, солнцу. Только через осмысление этого в проектировании мы сможем отойти от модернистской идеи архитектуры, где форма и материалы подчинены в первую очередь экономической рациональности и эффективности строительного процесса.
Традиционные материалы, открытые на заре человеческого существования — керамика, стекло, дерево, камень, — так и остались с нами. Например, в научном журнале Materials их рассматривают как «сверхдолговечные». Современные же технологии сменяются стремительно: они быстро устаревают, вещи оказываются на свалке.

Пока мы не увидим в традиционных материалах аутентичность и инновационность, а также не научимся быть скромными в своих аппетитах, даже самые амбициозные технологии и искренние стремления учёных что-то изменить не будут настолько эффективны, как нам хотелось бы. Мы будем жить среди зданий-афиш для политических деклараций, зданий-бутафорий или бесхарактерных зданий, лишенных культурной преемственности.
Как прошлое помогает думать о будущем?
Как участнице выставки биодизайна и биоархитектуры Ancient Futures, которая проходила в Алматы во второй половине апреля, для меня прежде всего был важен диалог между прошлым и будущим, между традициями и инновациями. Проект ставил перед собой задачу предложить устойчивые решения в архитектуре и дизайне.
Во время работы над Ancient Futures, я пересматривала свои представления о традициях — действительно ли практики прошлого были такими экологичными, как мы об этом заявляем? В нашем обществе существует достаточно мифов и утверждений, которые со временем превращаются в повод для гордости, миновав процессы фактических проверок.
И все же я склоняюсь к тому, что мы жили экологичнее, чем сейчас. Но это, скорее всего, не был осознанный моральный выбор. Быт человека складывался так потому что иначе было невозможно адаптироваться к суровому климату.
Прошлое помогает нам чувствовать стержень, опираться на него и ориентироваться. Оно помогает нам критически смотреть на современные практики, не уходя в сакрализацию. В этом я вижу одну из своих задач в проекте. Не сколько вдохновить, убедить, а скорее критически отнестись к тем амбициям, которые мы, как человечество, снова наращиваем, стоя на пороге новых технологических рывков.
Можно бесконечно говорить о поэзии войлока и других вещах из прошлого, и даже привносить в свою ежедневную рутину какие-то артефакты. Но этого не будет достаточно для настоящей связи с нашими корнями. Как и не станет выходом из метакризиса, в который мы ввергли себя за последние 200 лет.
На мой взгляд, из прошлого нам важно перенять философию кочевников: мы — часть природы. Более того, древние цивилизации создали большое количество орудий, инструментов, предметов, зданий и знаний при очень ограниченном количестве энергии. У прошлого нам необходимо научиться как планировать и создавать будущее, не рассчитывая на стремительно сокращающиеся ресурсы.
Сегодня мы все ещё тестируем то, насколько совместимы слова «дизайн», «инновации», «экологичность» с понятиями «древность», «ремесленничество», «климат». Бесспорно, поворот на локальные, региональные повестки важен. Но не отвлекает ли он нас от острых и срочных экологических проблем? Может быть, мы лишь очарованы трендами на устойчивость, которая монополизирована большими корпорациями? И не пропускаем ли мы, увлеченные поисками идентичности, большие и потому менее заметные процессы экономической деградации и роста социальной несправедливости?
С каким будущим нам придётся иметь дело?
Согласно исследованию группы учёных Института Вейцмана, опубликованного в престижнейшем среди учёных журнале Nature, ещё в 2020 году общая масса всего произведенного людьми превысила вес живой биомассы на нашей планете. Архитектура и строительство в этом процессе сыграли одну из важных ролей.
Архитектор и философ, основатель лаборатории Dark Matter Инди Джохар в своих докладах часто подчеркивает, что мы живем во время выхода из эпохи Просвещения, в котором пребывали как цивилизация 400 лет. Он утверждает, что как человечество мы находимся в состоянии взаимозапутанности и долгосрочных чрезвычайных ситуаций. А климатические изменения являются лишь «симптомами краха старого мировоззрения».
Города были центрами открытий и дискуссий о Просвещении. Но они же создали все то, что превышает массу всего живого на Земле. Города сегодня — это главные очаги загрязнения окружающей среды, консюмеризма и места отчуждения от природы. Кстати, в Казахстане процент городского населения уже превышает 60%.

В городской среде проходит чёткая граница между нами, урбанизированными существами, и природой. Я имею в виду дикую природу, непознаваемую для нас и поэтому опасную в наших представлениях. Города — места, где мы прячемся от природы.
С началом индустриализации люди стали строить заводы, вокруг которых развивались города с коммунальной и дорожной инфраструктурой. С появлением доступного автотранспорта мы создали из своих городов ещё и острова тепла, шумового загрязнения и прочих негативных последствий, от которых страдает вся планета. При этом согласно Глобальному проекту по картографированию сельских районов и городов (GRUMP), лишь около 3% поверхности Земли занято городскими поселениями.
Существование городов опирается на экономику, драйвером которой является дешевизна, скорость и надежность. Хотя в последнее время надежность перестает быть главным критерием. Природа всегда наносит ответный удар такой экономике. В городах постоянно вспыхивают эпидемии.
Чтобы противостоять болезням, проектировщики лишь сто лет назад догадались разбивать островки искусственной природы в городах — парки, водоемы, сады. И в какой-то момент мы поверили, что для нас этого достаточно.
Во многих религиях мира главенствует идея покровительства человека по отношению к живым существам, природе. Словно Бог наделяет человека правом решать за «неживую» природу и братьев меньших.
Эта иллюзия превосходства, питающая наше эго, привела к климатическим катастрофам, последствия которых ощутимы не для всех людей. Согласно Всемирной организации здравоохранения, климатические изменения в непропорционально большой степени ощущают на себе самые уязвимые и бедные слои населения, а также женщины и дети, этнические меньшинства, беженцы, мигранты, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Жить в экологически чистой среде — это классовая привилегия. Новейшие открытия в архитектуре, строительстве, как впрочем в медицине и в образовании, могут позволить себе лишь небольшое количество людей.
Недавно в книжном клубе Book Kultura мы читали нашумевшую книгу американского писателя Ричарда Пауэрса. У него была очень захватившая меня идея, что для деревьев мы — люди — слишком мелкие. Настолько, что они нас даже не видят. Более того, они могут жить столетиями, а мы едва доживаем до 80-90 лет. По сравнению с деревьями человеческая жизнь настолько ничтожна, что мы для них как будто не существуем. Автор книги также размышляет о развитии нашей планеты. О том, сколько миллионов лет понадобилось, чтобы гигантские скалы превратились в песок и на останках животных со временем выросли целые лесные массивы.
Если метафорически сравнить историю Земли с одним днём, в котором 24 часа, то человек появился буквально в последние минуты до полуночи. Поэтому мы здесь если не гости, то точно новички. Но уже успели многое натворить. В парадигме постоянного ускорения, к сожалению, нам трудно думать о сложных категориях.
Память о катастрофах прошлого
Восемь лет назад в рамках Artbat Fest, посвященного теме воды, я побывала на Арале, чтобы найти брошенные корабли — их тогда оставалось буквально единицы. Помню, как я вышла из машины в аральские пески и в минуты оказалась усыпана мелкой, едва заметной соленой пылью.
Вернувшись в Алматы к своей рутине, я продолжала вспоминать то бесконечно белое пространство из соли, размышляя о том, что же мы — человечество — наделали. Это было не чувством стыда перед природой, а, скорее, страхом за нас самих. Как далеко могут зайти наши амбиции и в какой момент всё это станет необратимо?
Арал — или то, что от него осталось — стал для меня безмолвным огромным чудовищем, которое мы породили. Оно стоит на месте бывшей воды и смотрит на нас. Или мы смотрим в эту пустоту и понимаем, что допустили что-то неотвратимое, от чего мы сами пострадаем.
В состоянии горя, страха и желания охватить весь масштаб потери воды, я начала рисовать свои первые эскизы и орнаменты. В тот момент я не решилась обратиться к ткачеству и пошла другим путём — так начались занятия по домбре за полтора года до пандемии.
Тем не менее эскизы ковра у меня остались. И когда в 2024 году инициаторки Ancient Futures Хана Цвелбар и Дана Молжигит рассказали мне о своей идее, я предложила сделать ковер по тем эскизам. На тот момент я училась войлоковалянию, не совсем понимая зачем, но чувствуя сильное внутреннее желание.
В итоге для проекта Ancient Futures я приготовила три ковра. Это полотна из войлока и самой простой казахской традиционной вышивки. Через них я рассказываю об экологических катастрофах, которые произошли за последние 100 лет: исчезновение Аральского моря, Семипалатинский полигон с ядерными испытаниями и освоение Целины. Все эти амбиции и страхи человека оставили незаживающие раны на теле Земли.

Ковры выполнены в коллаборации с биотехнологом Ханой Цвелбар. Хана — учёная, и её всегда завораживала идея цвета. Ей хотелось поэкспериментировать с пигментами, полученными из бактерий. Учёные полагают, что пигмент, выведенный из бактерии, более экологичен. Из небольшого количества бактерий можно извлечь практически бесконечное количество цветов. Тогда мы решили, что этими пигментами можно окрасить мои ковры
Правда, у меня всё равно остаётся вопрос: для выведения такой бактерии и поддержания её существования нужна лабораторная инфраструктура — оборудование, стерильные условия, постоянный температурный режим, контроль, тесты. Сколько ресурсов требуется на все это?
В центре каждого ковра — рога сайги. Сайгаки для меня — это какие-то загадочные, почти мифологические существа. Наверное потому, что они — одни из старейших жителей нашей планеты. Когда-то они обитали на всем Евразийском континенте. Но из-за индустриализации и множества других вмешательств человека их популяция сократилась до отдельных территорий Монголии, Центральной Азии и России.
Когда-то сотрудники Международного фонда спасения Арала рассказали мне про полуостров Барсакелмес, в котором находится заповедник, где сохраняют поголовье сайгаков. Мне особенно запомнилось, что сайгаки, проносясь стаями по степи, выполняют важную функцию — разрыхляют почву. Благодаря этому росткам травы легче пробиться сквозь толщу земли.
Сайгаки играют важнейшую роль в степной экосистеме. Но их популяция то падает, то восстанавливается благодаря нашим огромным усилиям. В этом порочном круге — исчезновения и возрождения — я решила поставить сайгаков в центр своей работы.
Выставка не предлагает уверенных формул, методологий или проверенных решений для устойчивого будущего. Ancient Futures — не первая в Казахстане попытка переосмыслить прошлое и привнести инновации и науку в художественные и ремесленнические практики. Уверена, таких инициатив будет появляться все больше.
Я приняла участие в проекте в первую очередь потому, что во мне было достаточно недоверия к биодизайну и мне захотелось разобраться изнутри в этом подходе.
Для меня очевидным стало вот что: инновации в дизайне пока только способствуют наращиванию массы вещей. Надежда, что наука разберется с нашими вредными для экологии городами, возрастающими островами мусора и другими побочными последствиями массового производства, приводит к иллюзии решения и к оправданию консюмеризма.
Пока общество осознанно не выберет жить скромно, пока радикальная умеренность не станет культурой и ясным сигналом заботы о будущих поколениях, инновации не смогут поспевать за нашими аппетитами. Но, боюсь, и этого не будет достаточно, чтобы отдалить надвигающиеся климатические изменения. Это предостережение с отсылками к самым темным главам нашей истории и заложено в мою работу.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
Мы верим, что справедливое общество невозможно построить без независимой журналистики и достоверной информации. Наша редакция работает над тем чтобы правда была доступна для наших читателей на фоне большой волны фейков, манипуляций и пропаганды. Поддержите Власть.
Поддержать Власть